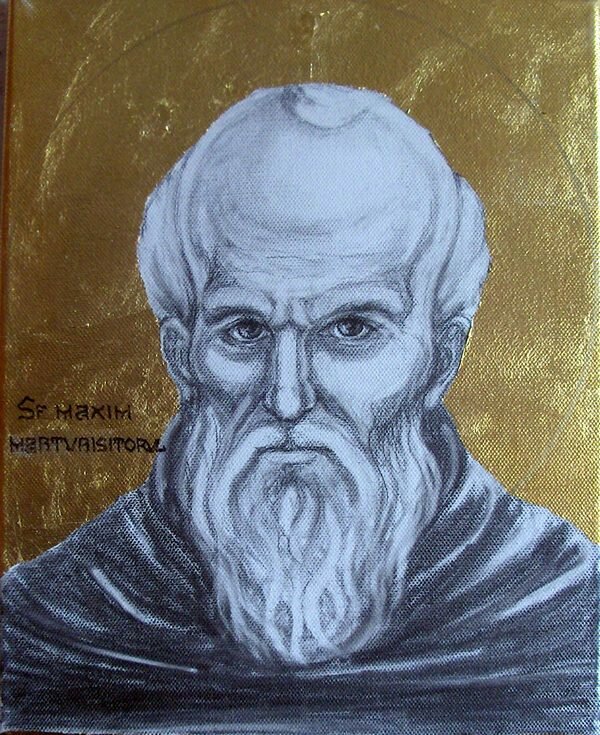Интервью: Максим Исповедник и неудобное богословие
Сентябрь 18th 2016 -
Разговор с Г. И. Беневичем о жизни св. Максима и о богословии, которое не положишь в карман.
Острова: — Григорий Исаакович, Вы много лет занимаетесь изучением жизни и трудов Максима Исповедника, святого отца, который жил в VII веке, то есть больше, чем тысячу лет назад. Чем он может привлечь нас, людей, живущих в XXI веке?
ГБ: — Максим Исповедник представляет собой довольно редкое для святоотеческой традиции сочетание качеств, многие из которых ценились не только во времена отцов периода Соборов, но важны и для современного человека. Здесь мы можем обманываться, потому что нам свойственно проецировать какие-то наши домыслы на то, что мы любим. Вообще, если посмотреть на историю «максимоведения» за последние сто лет, то можно увидеть очень много разных подходов к нему. Не только разные исследователи, но и разные поколения ученых, да и просто читателей воспринимали и воспринимают его по-разному. Это нормально. Это как раз признак того, что мы имеем дело с великим мыслителем и человеком.
– Что мы знаем о Максиме как личности? Греческое житие характеризует прп. Максима как человека благородного происхождения, получившего хорошее образование, а сирийское жизнеописание, так называемый псогос, – как человека из низших слоев общества без систематического образования. Здесь есть некоторая интрига для нас. Что Вы об этом думаете?
– Сирийская история была известна уже очень давно, знали ее, например, Бриллиантов и Епифанович, и никаких новых документов, переворачивающих наше представление о происхождении святого, так с тех пор и не появилось. Вплоть до 2003 года большинство крупнейших специалистов следовало греческой версии жизнеописания Максима, они говорили про сирийскую, что это инвектива, что ей нельзя верить, хотя какие-то сведения, может быть, оттуда и можно взять, но в целом, следовали традиционной версии – константинопольского происхождения святого.
Они брали за основу именно греческое житие и соответственно этому житию устанавливали датировку всех сочинений Максима. А потом появилась всего лишь одна статья Кристьяна Будиньона «Был ли Максим Исповедник константинопольцем?», которая никаких новых источников не ввела, а просто предложила другой взгляд. Еще в 2003 году ведущие специалисты по житийным материалам, связанным с Максимом, авторы критического издания «Документов из ссылки», Полин Аллен и Бронвен Нейл, пишут, что все-таки он наверняка жил в Константинополе, а в 2004 появляется статья Будиньона, и начинается другая научная парадигма. Из тех же самых кубиков сложился другой пазл. После этого научный мейнстрим сместился, и уже в Оксфордском руководстве по Максиму Исповеднику, который составили те же Аллен и Нейл, принимается сирийская версия и предлагается полная передатировка его сочинений в соответствии с предложением ученых следующего поколения М. Янковяка и Ф. Бута. Все переворачивается, и оказывается, что все или почти все люди, появлявшиеся в его жизни, жили в другом месте, в другое время. Сказать, что я не согласен, я не могу, хотя там много остается вопросов. Но понятно, что эта «смена парадигмы» во многом объясняется тем, что современному человеку намного ближе Максим, который из Палестины, из какой-то маргинальной семьи. Сейчас рассуждают так: происхождение из знатной семьи – это, наверняка, липа, такой житийный штамп. Нам ближе, что человек выбился в люди из странной среды.
– Стал гением из низов.
– Это не просто низы. Ведь согласно сирийскому псогосу, отец Максима был самарянин, а мать персиянка (зороастрийка, значит), да еще была «рабыней одного жидовина», и крестились они, можно сказать, вынужденно. Но я не буду вдаваться в детали, кто захочет, прочтет сам. Одним словом, происхождение самое незавидное с точки зрения византийского официоза и прямо противоположное знатной семье из Константинополя, давшей сыну лучшее образование, так что он еще юношей оказался секретарем императора Ираклия и т.д. Переводя на реалии современной России, если верить версии происхождения Максима из псогоса, это, как если бы чеченец взял бы в жены, скажем, гастарбайтера-узбечку (уборщицу у новых русских), и вот из такой семьи бы появился величайший русский и европейский философ.
– А где же по новой версии жизни Максима он получил образование?
– Поначалу в Палестине, в монастырях, а потом, бежав от персидского нашествия, Максим оказался в Александрии, там была известная философская школа, и Максим, таким образом, «притершись» к тамошней интеллигенции, получил хорошее образование, в частности, считают, что он мог учиться у Стефана Александрийского, с которым дружили Софроний, будущий патриарх Иерусалимский, и прп. Иоанн Мосх (у которых в сочинениях, впрочем, никакой особой философии почему-то нет). При этом, остается вопрос, почему и у самого Максима почти нет философии в ранних сочинениях. Спрашивается, где же его философское образование? Ведь к тому времени, когда он писал «Главы о любви», он уже должен был его иметь. Но почему он его спрятал? Может быть, он спрятал его потому, что хотел написать это сочинение для монахов. Но куда он дел его в«Вопросах и недоумениях»? Ему было уже немало лет, когда он их писал. Он вообще долго молчал и писать начал поздно, в 45–47 лет. Этим он отличается от отцов-каппадокийцев, например, которые начали писать в раннем возрасте. По ним видно, что они получили образование, научились писать, получили навык и стали писать. А Максим долго был просто монахом. И самое ранее его сочинение, дошедшее до нас – «Слово о подвижнической жизни», вполне традиционно, в нем чувствуются следы той традиции, которую можно найти у Варсонофия и Иоанна – беседа ученика со старцем. Но тут же – в «Главах о любви», направленных к тому же адресату, начинается что-то совсем другое.
– Связанное с философией?
– Не совсем так. Философия в специальном и техническом смысле, поначалу, как я сказал, не играет у Максима большой роли. Но вот в подспудный диалог с оригенизмом Евагрия и других оригенистов он вступает уже в «Главах о любви». Эта работа с оригенистической традицией, стремление ответить на вопросы, поставленные в оригенизме, использовать лучшее, что было достигнуто оригенистами, отбросив их ереси, станет важнейшим делом Максима. А оригенисты ведь были интеллектуалами своего времени. Во времена Максима их уже «разбили», разогнали и осудили. А Максим взял их наследие и можно сказать, спас его от уничтожения. Это вписывается, кстати, в его палестинское происхождение, так как именно в Палестине был некогда особенно распространен оригенизм, и в псогосе Максиму инкриминируется то, что он с детства был под их влиянием. Последнее, скорее всего «наезд», но что Максим хорошо знал сочинения Оригена, Дидима Слепца, Евсевия Кесарийского и особенно Евагрия – это точно. Знал и использовал их в своих сочинениях. Эта открытость Максима ко всему глубокому и ценному, что можно было найти вне мейнстрима православной традиции, умение воспринять эти ценности и работать с ними без ущерба для православия, а, напротив, обогащая его – вот та черта, которая, среди прочих, импонирует нам в Максиме сегодня.
Если говорить об отношении Максима к философии, то можно сказать, что элементы философии, точнее, работы с философско-богословскими понятиями и идеями, у него везде есть, и чем дальше, тем больше. Есть у него и такие сочинения, в которых чувствуется чисто философский интерес. Но с каким бы сочинением Максима мы ни имели дело, главное, что он будит людей. Все время своих адресатов удивляет. У него нет никаких плоских мест, банальностей. Он не пускается в морализаторство или повторение чужих мыслей. У него всегда будет неожиданный поворот. И не то чтобы он оригинальничает ради оригинальности. А именно он думает над тем, что говорит. Он все время пытается идти вглубь, старается не останавливаться на привычном, а привычное делает непривычным, о чем бы он ни писал. Любая его интерпретация более-менее неожиданна. В том числе это относится к догматическим вопросам, когда он пишет о Троице или о христологии. Неслучайно он во время полемики с монофелитством навлекал на себя критику не только своих непосредственных противников, но и так называемых жестких диофелитов, вроде бы союзников. Он все время был неудобен, и неудобен со всех сторон. Если он полемизировал с оригенизмом, то одновременно он полемизировал и с противоположной стороной, то есть с теми радикальными антиоригенистами, которые полемизировали с Оригеном примитивно. Это всегда видно. Он всегда имеет в виду всю картину в целом. У него систематическое отношение к вещам.
– А для кого он писал?
– Он писал для братьев по разуму, способных понять и услышать, хотя формально адресат мог быть конкретным. Поэтому и его письмо, обращенное к префекту Карфагена, и письмо к монахине, сбежавшей из монастыря, вполне могут быть интересны и значимы для нас, живущих совершенно в другом историческом контексте и жизненной ситуации. При этом его вопросы и ответы в«Вопросах и недоумениях» или в «Амбигвах» или в «Вопросоответах к Фалассию»заметно отличаются от вопросов-ответов святых Варсонофия и Иоанна. У Варсонофия и Иоанна они носят характер наставления. Авторы имеют статус старцев – как они скажут, так и будет. Важнейшая связь между вопрошающим и отвечающим там выражается словом «послушание». У Максима это слово почти отсутствует, а общение с адресатом у него духовное, что для него всегда означает и интеллектуальное. Когда он отвечает на вопросы, то даже не совсем понятно – это он сам себе их ставит или ему их задают. Там нет таких вопросов, как “Что мне делать?”, то есть он не выступает в качестве старца в обычном смысле слова. Иногда он говорит, что делать, советует. Но это очень редкий случай, и это не то, что относится к сфере послушания. Это немножко другие отношения. Он скорее дает общий абрис, что, с его точки зрения является православным, то есть правильным, но это не является конкретным советом о том, что делать.
Он не связывает ничью свободу своими советами, а все время дает свободу слушателям, все время оставляет зазор свободы: а вот вы думайте сами, сами решайте, что это значит.
– Максим не пишет о послушании. О каких еще общепринятых святоотеческих темах он НЕ пишет?
– Он почти не пишет о чудесах, то есть не описывает их (а вот богословие чудесного у него есть – понятие о «новоустроении» природ), но вот рассказов о чудесах нет. Притом, что тогда вокруг все писали о чудесах, тот же Софроний Иерусалимский, написавший «Чудеса Кира и Иоанна».
– И это было необычно для того времени.
– А у него вообще много необычного. За что ни потяни, везде необычно. Загадка в биографии. Его отношение к философии – непонятно, когда и как он набрался этого, и как он это пускал в дело. Такое впечатление, что между «Главами о любви», где почти нет философии, и «Амбигвами», где она есть, он просто сел за книги и тогда этому и научился, всего за несколько лет. Но это одна из возможностей. Непонятно, что он взял, читая языческих философов типа Платона с Аристотелем, или Плотина с Проклом, или Симпликия, а что он получил, просто читая святых отцов, те же Ареопагитики. А был еще Филопон, философ-христианин, но монофизит и тритеит, то есть еретик. Читал ли его Максим? Похоже, что да.
Современные исследователи ищут в сочинениях Максима следы неоплатоников, но параллельные вещи находятся у Ареопагита, у каппадокийцев. Сказать, что именно и у кого взято, с определенностью невозможно. Но находки типа «а это взял он у того, а это у сего» – это самый банальный уровень отношения к тексту, потому что, в конце концов, не так уж важно, что и у кого он взял.
– А есть что-то, о чем он, наоборот, пишет, в то время как другие об этом молчат?
– Очень мало кто из святых отцов посвятил отдельные большие трактаты теме любви. Почему эта тема не стала центральной? Ведь в Евангелии и в посланиях она везде…
Метки: православие
Pages: 1 2